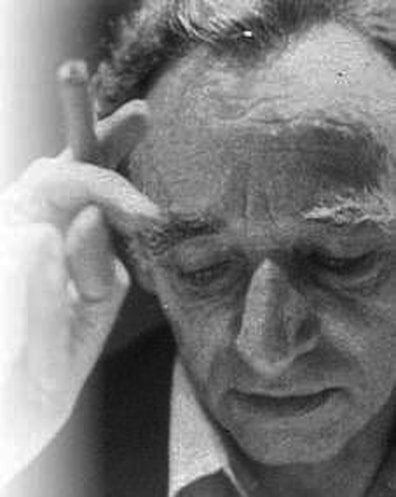Это интервью первоначально было опубликовано в первом томе, №2, журнала The Gestalt Journal, осенью 1978 года.
Эдвард Розенфельд
ЭР: Как вы познакомились с Фредериком Перлзом и гештальт-терапией?
ИФ: В 1945 году я приехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в Новой школе социальных исследований у философа Лео Штрауса и Уильяма Троя — о которых я знал, ещё живя в Калифорнии. Спустя год стало очевидно, что мне необходима психотерапия. Хотя, думаю, тогда мы бы не сказали «психотерапия» — мы бы сказали «психоанализ». Я стал искать психоаналитика (имея при этом очень мало денег), но не смог найти никого, кто согласился бы встречаться со мной чаще, чем раз в месяц, за ту сумму, которую я мог платить.
ЭР: Как вы говорили раньше, многие из этих психоаналитиков жили на Парк-Авеню.
ИФ: Да, хотя аренда на Парк-Авеню тогда была не так уж велика.
ЭР: Но жили они очень хорошо.
ИФ: Да, но я помню, как посетил нескольких аналитиков. Думаю, имена мне дал Гарднер Мёрфи.
ЭР: Он преподавал в Новой школе?
ИФ: Да. Он читал курс по психологии личности. В ходе этих поисков я встретился с психологом, который согласился, что терапия мне нужна — причем срочно. Он упомянул человека, недавно приехавшего в США, которому, вероятно, нужны пациенты, и направил меня к нему. Этим человеком был Фредерик Перлз, живший тогда на Ист-Сайде в восьмидесятых улицах, в квартире без горячей воды напротив пивоварни Рупперта. Это была совсем другая среда, чем те, которые я видел ранее, но это место и то, как он был одет, меня совершенно не оттолкнули.
ЭР: Но вся обстановка была потрепанной и обветшавшей?
ИФ: Да, но меня это не волновало. Я рассказал ему о себе и своей потребности в терапевте. Опять же, я вряд ли сказал бы «терапевт». Аналитик — вот правильное слово. Он ответил, что не может принять меня, так как ему нужны пациенты, которые могли бы платить полную ставку. Он сказал, что я могу вернуться позже. Я помню, что ответил с большим мужеством, чем чувствовал в тот момент: «Я НЕ МОГУ ЖДАТЬ!» Он сказал, что придется ждать. Потом он почему-то спросил, что я изучаю. Из моих предметов я упомянул феноменологию. Тогда он сказал: «Ложитесь на кушетку».
ЭР: Вы действительно тогда хорошо разбирались в феноменологии?
ИФ: Совсем нет. Я проходил годовой курс по феноменологии. Читал кое-что из Гуссерля. Тогда его работ на английском почти не было, а по-немецки я читал плохо. Я прочел несколько статей Гуссерля, но не мог сказать, что хорошо его знал. Я знал только, что знал больше, чем Перлз. Он тоже это понимал. Позже мне стало ясно, почему он заинтересовался.
ЭР: Почему?
ИФ: Потому что если и есть какая-то философская основа у того, что позже стало гештальт-терапией, то она именно от Гуссерля и экзистенциализма, который отчасти вырос из его работ.
ЭР: Итак, услышав слово «феноменология», ситуация изменилась?
ИФ: Да. Я лёг на кушетку. Он сказал описывать всё, что я переживаю, но начинать каждое предложение со слов «здесь и теперь». Только это меня удивило, потому что всё остальное было похоже на моё представление о психоанализе. Он сидел за моей спиной, и я его не видел, пока лежал.
ЭР: Он говорил, пока вы говорили? Давал какие-то реакции?
ИФ: Помню очень мало. Наверное, что-то было. Но кроме двух эпизодов, я не помню ни слова из того, что он говорил.
ЭР: Что это за два эпизода?
ИФ: Первый раз он спросил меня, были ли у меня когда-либо сексуальные фантазии о нём, что меня удивило. Я поднялся с кушетки, повернулся к нему и сказал: «Нет, вы слишком старый и уродливый». Он сказал: «Хорошо, хорошо». Второй раз: я говорил ему вещи, которые, думал, шокировали бы кого угодно. Он ничего не говорил, и это разозлило меня. Я рассказал еще более шокирующие детали, и он снова молчал. Тогда я в ярости бросил в него пепельницу и промахнулся. И он сказал: «Хорошо, хорошо, хорошо». Я размышлял потом об этом. Думаю, он сказал «Хорошо», потому что я промахнулся. Это всё, что я помню из его слов в терапии.
ЭР: Значит, вы встречались регулярно?
ИФ: Два раза в неделю.
ЭР: Как долго вы его видели?
ИФ: Полтора года.
ЭР: Как закончилась терапия?
ИФ: Он направил меня к Лоре Перлз, своей жене, недавно приехавшей в США. Он дал понять, что мне нужно работать с ней.
ЭР: И вы начали терапию с Лаурой Перлз.
ИФ: Да, два раза в неделю, за ту же небольшую плату.
ЭР: Ее способ вести терапию отличался от Фредерика?
ИФ: Да, я лежал на узкой кушетке, а она сидела передо мной и чаще упоминала о моем дыхании, что казалось странным мне и моим друзьям.
ЭР: Когда вы начинали работать с Фредериком, вы сказали, что он просил вас начинать каждое предложение словами «здесь и сейчас».
ИФ: Да.
ЭР: Он продолжал так делать всю терапию?
ИФ: Да, думаю, да. Сам не помню, но скорее всего продолжал и поправлял меня, когда я отступал от этого.
ЭР: А Лора тоже ориентировалась на настоящее?
ИФ: Похоже, что так, но менее буквально. Помню ее гораздо более поддерживающей и в прямом контакте со мной. Тогда это очень помогло.
ЭР: Как закончилась терапия с Лорой?
ИФ: Я чувствовал себя гораздо лучше и решил закончить терапию, отправившись в Европу, о которой всегда мечтал. Несмотря на отсутствие денег, сказал Лоре, что уезжаю в Европу, что ее обрадовало. Так терапия закончилась, я уехал на полтора года.
ЭР: А после возвращения контактировали ли вы с ними?
ИФ: Первый социальный контакт — ужин на День благодарения.
ИФ: Да. И тогда Перлз рассказал, что был в Калифорнии и встречался с моим братом-близнецом, который тогда жил там. Это, конечно, было нетипично для терапевта и, возможно, не очень этично — встречаться с семьей пациента. Мой брат познакомил его с группой молодых психологов в Лос-Анджелесе. После общения с ними он решил переехать в Калифорнию. У него уже была там небольшая практика, люди интересовались возможностью быть его пациентами. Тогда же возникла тема, чем буду заниматься я — этот вопрос всегда всплывал в моей терапии и оставался неразрешенным. Я сказал: «Не знаю». И они оба сказали: «Что еще ты можешь делать?» Фредерик Перлз заявил, что очевидно, мне нужно стать терапевтом, и у него уже есть для меня два пациента из Калифорнии, и я поеду с ним.
ЭР: До этого момента вы не думали о себе как о психотерапевте или психоаналитике?
ИФ: Нет. Как и любой образованный человек того времени, я читал Фрейда, Райха точно, немного меньше Юнга. Я знал терминологию, но мне не приходило в голову, что я хочу или могу быть психотерапевтом.
ЭР: Но вы приняли его предложение.
ИФ: Мне казалось, выбора у меня нет. Конечно, выбор был. Но правда, что еще я мог делать? Он уехал, я последовал вскоре за ним. Мы делили офис в его квартире рядом с Голливуд-бульваром.
ЭР: Сколько вы пробыли в Калифорнии?
ИФ: Около двух лет. Перлз не достиг того успеха, на который рассчитывал. Хотя практика у него была приличная, примерно через год он уехал из Калифорнии. Я перенял почти всех его пациентов и остался еще на год. В этот период готовилось издание книги «Гештальт-терапия». Помню, что рукопись была отправлена в Калифорнию, и я просмотрел, особенно внимательно, ту часть, которую написал Хефферлайн, и остался ею недоволен. Она показалась мне проповеднической и не всегда интересной. Как ты знаешь, Эд, первая часть изначально планировалась как вторая, но редактирование (так называемое редактирование) привело к тому, что в книге были описаны лишь прекрасные результаты его экспериментов. Я предложил, нельзя ли включить менее замечательные результаты. Но Хефферлайн отказался внести мои правки. Так что это было опубликовано почти так, как он написал.
ЭР: А теоретическую часть вы тогда видели?
ИФ: Да, и у меня не было с ней разногласий. Я знал, что эту часть написал Пол Гудман.
ЭР: Вы знали Пола Гудмана?
ИФ: Да, я знал Пола Гудмана еще до встречи с Перлзом. У нас были общие друзья с конца 30-х годов. Я познакомился с ним в Чикагском университете, кажется, в конце 30-х. Нас познакомил Дэвид Сакс, который теперь преподает философию в университете Джонса Хопкинса. Итак, я знал его с тех пор, как впервые переехал в Нью-Йорк в 1945 году.
ЭР: Когда вы были в Европе или сразу после возвращения оттуда, вы знали, что Гудман работает над теоретической частью планируемой книги?
ИФ: Да, я всегда знал об этом. Я знал, что у Перлза была довольно небрежная рукопись, небольшого объема (смутно помню, как читал её), и он искал кого-то, кто привёл бы её в удобочитаемый английский язык. Это часто происходило с его рукописями. Я точно не помню, как именно Пол Гудман был привлечён к работе. Помню, что Пол был ужасно беден, как почти всю жизнь. Просил ли Перлз его — не знаю. Но как-то он всё же взялся за рукопись и в процессе написания понял, что ей не хватает объема, и написал то, что стало второй частью книги. Я помню, его гонорар за эту работу составил 500 долларов.
ЭР: И это всё, что он получил?
ИФ: Ему также дали процент от роялти — я не помню точную сумму. В то время продажи были настолько небольшими, что до самой своей смерти он почти ничего не получал. Позже, благодаря хорошим продажам книги «Гештальт-терапия», он и его наследники получили намного больше. Но в тот момент всё, на что он рассчитывал, — это гонорар за написание.
ЭР: Как вы считаете, благодаря чему Гудман смог так точно понять и развить теоретические основы гештальт-терапии? В книге «Эго, голод и агрессия» Перлза почти ничего нет от того обширного развития метафоры гештальта и нарушений контактной границы, которые подробно описаны во второй части «Гештальт-терапии». Как он к этому пришёл?
ИФ: Не помню, давал ли я Полу читать «Эго, голод и агрессию». Я давал её нескольким друзьям. Они были не впечатлены стилем и задавали много вопросов о том, как книга написана и что в ней отсутствует. Помню обсуждения на эту тему. Несколько молодых и не очень молодых интеллектуалов заинтересовались «Эго, голод и агрессия» и осознали, что в ней есть нечто новое. Большинство из них, включая Пола Гудмана, поняли, что на книгу явно повлиял Вильгельм Райх. Думаю, именно Гудман лучше других осознал возможность вклада как самого Перлза, так и рамок, которые были заложены в «Эго, голод и агрессия». Пол понял, что в этой книге и в рукописи, которую ему передал Перлз, не хватало объединения идей Фрейда и Вильгельма Райха. Была также работа Отто Ранка, важность которой Перлз на тот момент не осознавал. Но Гудман был внимателен к этому материалу. Думаю, работая с материалами Перлза, Гудман очень увлекся и решил написать свою собственную книгу, уважительно относясь к материалам Перлза, показав при этом особый способ делать психотерапию, присущий гештальт-терапии. Я никогда не слышал от Гудмана критики или негатива по отношению к материалам, предоставленным Перлзом. Он мог сказать, что материала недостаточно, или что потребуется еще большая работа. И 500 долларов тогда были большими деньгами. Знаю, что потребовалось немало усилий, чтобы получить эти деньги от Перлза.
ЭР: Как вы стали терапевтом? Перлз дал вам какое-то обучение, когда вы приехали в Калифорнию, или просто бросил вас в комнату с пациентом?
ИФ: Звучит странно, не правда ли?
ЭР: Да — вас просто посадили в комнату с пациентом и сказали начинать?
ИФ: Именно так. Одним из пациентов, которых он для меня приготовил, был человек, тесно с ним связанный. Я решил, что это свидетельство его доверия ко мне. И ещё… у нас была группа, тренировочная группа в Калифорнии, состоявшая преимущественно из женщин высшего среднего класса. Моя роль в этой группе заключалась в том, чтобы быть своего рода «подсадным» — когда Перлз спрашивал участников, что они переживают, и обращался ко мне, я всегда отвечал, используя «здесь и сейчас» с такой ловкостью, которой могли бы позавидовать некоторые мои нынешние студенты. Тогда Перлз одобрительно улыбался мне, и большинство женщин понимало: «Ага, вот как надо делать!» (Помню, как Перлз рисовал схемы образования гештальтов.) Я стал больше использовать здесь-и-сейчас в своей практике. Это было обучение, в котором наставник присутствовал довольно туманно.
ЭР: Когда вы начали вести терапию, вы следовали психоаналитическому стилю, в котором начинал работать с вами Перлз? Вы укладывали пациентов на кушетку или, как Лора, сидели напротив них?
ИФ: В основном пациенты лежали на кушетке, а я сидел напротив. Я бы сказал, мой стиль больше был вдохновлен Лорой, чем Фредериком. Мой гонорар тогда составлял два доллара за сессию, так что я не чувствовал, будто обманываю их. Даже до отъезда Перлза моя практика уже расширилась с тех двух пациентов, с которыми я начинал.
ЭР: То есть вы стали больше чувствовать себя настоящим психотерапевтом?
ИФ: Да, хотя думаю, ещё около пятнадцати лет я не чувствовал себя настоящим терапевтом.
ЭР: Всегда оставалось какое-то…
ИФ: Беспокойство. Тревога. «Что я вообще делаю?»
ЭР: Что заставило вас уехать из Калифорнии?
ИФ: Ну, Перлз уехал через год, а я продолжил его практику. Это трудный вопрос. Мне не нравилась Калифорния. Я проработал более двух лет и снова захотел поехать в Европу. Поэтому с примерно тысячей долларов, которые успел накопить, я уехал в Европу еще на год. Когда я был в Англии, я по просьбе Перлза встретился с психологом и специалистом по урогенитальным заболеваниям, оба прочитали «Гештальт-терапию» и заинтересовались обучением. Я остался в Лондоне на пять-шесть месяцев.
ЭР: Вы их обучали?
ИФ: Да, в основном это была терапия.
ЭР: И после года в Европе вы вернулись в Америку, в Нью-Йорк?
ИФ: Да.
ЭР: На тот момент, я полагаю, Нью-Йоркский институт уже был создан?
ИФ: Лора начала институт примерно под конец первого пребывания Перлза в Калифорнии. Когда он вернулся, небольшая группа людей уже собиралась у Лоры. Был ли это тогда уже институт, я не знаю. Но когда я вернулся из Европы, уже была официальная канцелярия — Нью-Йоркский институт гештальт-терапии — и было шесть или семь человек, которые считались «оригинальными» членами института.
ЭР: Помните, кто это был?
ИФ: Попробую. Это были Пол Вайс, Пол Гудман, Эллиот Шапиро, Фредерик Перлз, Лора Перлз, я сам и, возможно, Сильвестр, более известный как «Бак» Истман. Пожалуй, всё.
ЭР: Итак, именно эти люди участвовали в обсуждениях того, что такое гештальт-терапия?
ИФ: Да. Знаете, мне трудно сформулировать это так. Насколько я помню, разговоров о том, что такое гештальт-терапия, не было. Это были, насколько я помню, групповые встречи. Гудман, наверное, был самым активным. Обсуждения были, но я не помню темы «что такое гештальт-терапия». Часто возникали разногласия — не конфликты, а именно разногласия. Важно подчеркнуть, что никто не считался главным. Никто. Ни Фредерик Перлз, ни Лора Перлз…
ЭР: Пол Гудман?
ИФ: Ни Пол Гудман, ни Пол Вайс, ни я — никто. В каком-то смысле, я чувствовал себя менее квалифицированным. Мы воспринимали друг друга как равных.
ЭР: Когда вы начали ездить в Кливленд?
ИФ: Думаю, это было примерно в 1952 году.
ЭР: После возвращения из второй поездки в Европу?
ИФ: Вскоре после. Как я помню, два-три психолога приехали в Нью-Йорк. Они услышали о нашем так называемом институте и побывали на встречах. Они вернулись в Кливленд и собрали там пять-шесть других клинических психологов, затем пригласили Перлза. Это была первая из таких поездок. Он поехал туда. Думаю, во второй приезд, возможно, через два-три месяца, когда собралось уже больше людей, мы с Полом Вайсом поехали вместе с ним. Мы проводили малые группы и индивидуальные встречи. Думаю, мы с Полом ездили дважды вместе с Перлзом. Мы были довольно обеспокоены увиденным. Происходило нечто драматичное, но ни один из нас не мог назвать это терапией. Было много дрожи, тряски, тревоги, которую я не понимал. Пол Вайс, будучи врачом, сказал мне, что, по его мнению, «Перлз добивался таких драматических эффектов за счёт гипервентиляции». Тогда я впервые услышал о гипервентиляции и никогда этого не забыл. Также во второй приезд я заметил, что трудности, проявившиеся в первый приезд, просто повторились в более острой форме. Более того, различия между людьми каким-то образом стимулировались тем, что мы делали. Тогда я, немного раздраженно, за обедом с Перлзом (там был и Пол Вайс), сказал ему, что считаю наше поведение безответственным, и если мы собираемся обучать людей гештальт-терапии, то им нужен терапевт, с которым они смогут работать регулярно, а не изредка. Перлз охотно согласился со мной и тут же объявил, что именно я и буду ездить в Кливленд.
ЭР: То есть именно так было решено, что вы станете постоянным тренером Кливлендского института?
ИФ: Да. Он объявил этим людям, что приезжать буду я. Мне было не по себе. Во-первых, все эти люди были очень квалифицированными психологами. Почему они должны были принять меня, человека совершенно иного образования, по указанию Перлза? Тем не менее, они приняли. Но я ясно дал понять, что это испытательный срок. Он длился пять лет — дважды в месяц, потом ещё пять лет раз в месяц, и затем хотя бы один-два раза в год до сих пор.
ЭР: Очень долгое время.
ИФ: И в процессе я многому научился.
ЭР: Я знаю, как вы проводите обучение сейчас: у вас обучающиеся по крайней мере год разбирают буквально построчно теоретическую (вторую, Полом Гудманом написанную) часть книги «Гештальт-терапия». Использовали ли вы этот подход с самого начала, когда начали ездить в Кливленд?
ИФ: Да, именно так. У нас была теоретическая группа, где мы обсуждали «Гештальт-терапию», а также терапевтическая группа. Я встречался с каждым человеком примерно четыре раза в месяц: в этих двух группах и индивидуально. Проблемы с пониманием текста мы могли рассматривать как проблемы их личной терапии — выясняя, что мешает человеку понять конкретный раздел. Я мог использовать текст в терапии. Не настаивая, конечно, что текст — это священное писание, но было интересно предположить, что трудности с пониманием текста могут отражать трудности самого читателя, и над этим стоило поработать. Затем мы могли и критиковать текст.
ЭР: Почему вы изменили этот подход?
ИФ: Отчасти потому, что многих людей, которых я сейчас обучаю, я не вижу в индивидуальной терапии. Я вижу их только в теоретической группе или на практических занятиях.
ЭР: Как вы думаете, почему после публикации «Гештальт-терапии» никто не написал значительных теоретических работ? Или почему никто не попытался развить идеи Пола Гудмана?
ИФ: Я несколько настороженно отношусь к слову «теория». Я сам часто его использую. Думаю, то, что сделал Пол Гудман, — это артикуляция того, что не было артикулировано ранее. Это не просто описание действий, а попытка описать, что делает гештальт-терапевт, если бы он задумался и попытался объяснить это другим. Таким образом, теория не отделена от практики. Но действительно великий вклад, внесённый Перлзом, — это понятие интроекции. Его вклад в это понятие гораздо больше, чем он сам осознавал. Гудман это заметил. Именно здесь была важнейшая точка расхождения Перлза с Фрейдом. Последствия для автора книги, как понял Гудман, в том, что нельзя писать серьезную книгу, рискуя тем, что читатель будет интроецировать её. То, что мы называем теорией, — это способ писать о серьезном деле, о гештальт-терапии, так, чтобы предотвратить интроекцию.
ЭР: В чём опасность интроецирования теории или описания методов гештальт-терапии?
ИФ: Эти опасности уже проявились, по крайней мере частично. За последние десять лет у нас появились недостаточно осознающие последователи, которые интроецируют, на мой взгляд, в первую очередь позднего Перлза. Они недостаточно критичны к себе и другим. Опасность в том, что они незаметно для себя отошли от одной из основ гештальт-терапии: наши пациенты не должны нас интроецировать.
ЭР: Чем это отличается от других видов терапии, скажем, от психоанализа?
ИФ: В серьезной психоаналитической терапии интроекция аналитика не считается нежелательной. Напротив, принятие пациентом интерпретаций аналитика без критики считается полезным, а непринятие — сопротивлением. У них есть веские теоретические и практические основания для этого. Именно Перлз указал на ошибку Фрейда относительно периода, в течение которого интроекция считается полезной, что сделало гештальт-терапевтов более осторожными в отношении интроекции теоретических или практических положений. Таким образом, мы серьёзно расходимся с Фрейдом. Фрейд считал интроекцию полезной до относительно позднего возраста. А Перлз, благодаря своему интересу к зубам и тому, как мы их игнорируем…
ЭР: Вся эта перспектива зубной агрессии…
ИФ: Да. Но именно это его прозрение открыло дверь и сделало новую терапию необходимой. Поэтому книга о гештальт-терапии, которая рискует быть интроецированной, сама нарушает принципы гештальт-терапии.
ЭР: Думаю, я веду к тому, что многое из того, что сегодня называют гештальт-терапией, является скорее демонстрацией, чем терапевтическим процессом.
ИФ: Именно так и работал Перлз в последние годы жизни — он проводил демонстрации или небольшие этюды гештальт-терапии. Настоящую терапию невозможно провести за пятнадцать-двадцать минут.
ЭР: Вы думаете, главная разница в том, что он работал в таком «краткосрочном» формате?
ИФ: Он хотел воздействовать на большие группы людей, и в этом был успешен. Но важно помнить контекст — ещё одно ключевое понятие гештальт-терапии — и осознавать, что то, что работало для Перлза в его контексте, не обязательно подойдёт в работе с малыми группами, индивидуально или с некоторыми проблемами. Для своего контекста его метод, возможно, был достаточен. Но те из нас, кто применяет этот метод в других условиях, не внесли необходимых изменений.
ЭР: Вы ранее упомянули, что некоторые основания, появившиеся в «Эго, голод и агрессия» и позже ставшие гештальт-терапией, берут начало у Фрейда, феноменологии, экзистенциализма, а также из работ Райха и Ранка. Влияние Райха и Фрейда уже описано во многих местах. Могли бы вы рассказать о влиянии Отто Ранка?
ИФ: Да. Именно Пол Гудман отметил, что Перлз прямо или косвенно находился под влиянием Ранка. Когда Перлз был в Европе, Ранк уже был известен, были известны и его расхождения с Фрейдом. Позже я узнал, что именно Ранк впервые использовал выражение «здесь и сейчас». Именно он первым подчеркнул важность фокусировки на настоящем моменте. Он не развивал это так широко, как позже Перлз, но мысль была его. Также позже я узнал, что именно Отто Ранк первым предложил рассматривать каждый элемент сна как проекцию — то, что позже Перлз объявил собственным открытием. Думаю, Перлз переживал это как собственное открытие. Влияние Ранка на Гудмана очевидно в тексте «Гештальт-терапии».
ЭР: Там, где он ссылается на «Искусство и художника».
ИФ: Да, почти так же изящно, как на «Толкование сновидений». Гудман внимательно прочёл всего доступного Ранка. «Искусство и художник», которую я сам до сих пор с трудом воспринимаю, очень повлияла на Гудмана и была актуальна при написании «Гештальт-терапии».
ЭР: У вас есть подход к работе со снами, который, насколько я понимаю, заметно отличается как от фрейдовского символического подхода, так и от того, что я бы назвал экзистенциальным подходом Перлза. Могли бы вы кратко описать, как вы работаете со снами и какую роль они играют в терапии?
ИФ: Знаете, слово «экзистенциальный» вызывает у меня некоторый дискомфорт. Я подозреваю, что мой подход к снам столь же экзистенциальный, как и у Перлза. Я не стал бы делать акцент на этом слове. Это не иной подход, это скорее дополнение. То, что предлагал Перлз, заключалось в том, чтобы рассматривать каждый элемент сна как проекцию и в терапии искать эти проекции, работая над их ассимиляцией. Обычно это делалось через технику пустого стула, где пациент старался стать частью сна, которую терапевт считал значимой проекцией. Я не против этого. Но считаю, что этого часто недостаточно. Я добавил следующее: что если мы будем рассматривать сон как ретрофлексию? Неосознаваемая ретрофлексия — это важнейшее нарушение на границе контакта, которое особенно интересует гештальт-терапию. То, что говорил Перлз о снах, не особенно ново. То, что говорю я, тоже не ново. Отто Ранк высказал ту же мысль задолго до этого. Правда, на это обратили внимание только после упоминания Перлзом. Наиболее важными снами, если мы рассматриваем их как неосознаваемую ретрофлексию, становятся сон, увиденный в ночь после сессии, и сон, увиденный в ночь перед сессией. Нет способа это доказать. Но можно попробовать, как делал я и другие, и убедиться, что это помогает прояснить нарушения на границе контакта пациента и терапевта. Я исхожу из предположения, что сон — это ретрофлексия в наивысшей степени, потому что человек видит сон, когда он спит, и тогда контакт, кроме дыхания, прекращается полностью. Если сон — это попытка отменить ретрофлексии, возникшие во время терапевтической сессии, то можно коснуться материала, который иначе был бы упущен, или сделать это более экономично. Я имею в виду, что так экономится время. Пациент в терапии обычно знает, что если он вспомнит сон, то расскажет о нём терапевту. Поэтому я предполагаю, что этот факт может в какой-то степени определять содержание сна пациента. Это не просто сон, это сон, который будет рассказан терапевту. Таким образом пациент пытается отменить ретрофлексии и решить нарушения на границе контакта с терапевтом.
ЭР: Я полностью понимаю это в отношении сна, который возникает перед сессией…
ИФ: Это справедливо и для сна после сессии.
ЭР: Но вы говорили раньше, что сон является чем-то, о чём пациент расскажет терапевту, и я понимаю, что пациент запомнит сон перед сессией и расскажет его на следующий день. Меня же смущает сон, увиденный сразу после сессии, когда до следующей встречи может пройти неделя или несколько дней. Я понимаю, что это может быть ретрофлексия, но не уверен, что этот сон видится с таким же намерением быть рассказанным терапевту.
ИФ: Терапия обычно — это непрерывный процесс, и пациент знает, что следующая сессия будет через несколько дней или неделю. Причина, по которой я считаю сон после сессии важным, заключается в том, что ретрофлексии могли возникнуть именно во время прошедшей сессии. Другим словом для ретрофлексии было бы цензурирование, удержание, внутренний разговор пациента с самим собой, когда он не мог или не хотел высказать это терапевту. Часто, если сосредоточиться на этом сне, пациент повторяет во сне нечто важное. Например, слово «глупость» может ярко проявиться во сне после сессии. Тогда терапевт может спросить: «В чём я был глуп на нашей последней сессии?» Пациент часто, хоть и с трудом, укажет на что-то, сказанное или сделанное терапевтом, что он не смог обсудить ранее. Такие нарушения часто мешают терапии, если не выражены. Во сне он снова говорит это себе. Но я предполагаю, что сам факт того, что это появилось во сне, означает готовность отменить эту ретрофлексию и открыто критиковать терапевта. Пациент не знал, и терапевт не знал, что есть этот материал. Это отвечает на вопрос?
ЭР: Конечно.
ИФ: Я не утверждаю, что только сны до и после сессий имеют значение. Но они часто оказываются особенно ценными. Обычно я информирую пациентов о том, что особенно интересуюсь снами перед и после сессий. Это, конечно, повышает значимость этих снов для пациента, и понятно, что он с большей вероятностью их запомнит. Но подчёркиваю, не только эти сны важны. Любой сон пациента я рассматриваю прежде всего с этой точки зрения. Сон перед сессией особенно ценен, потому что помогает определить направление терапии. Это словно репетиция, а это форма ретрофлексии. Пациент часто обдумывает, что скажет терапевту. В сне перед сессией он делает нечто подобное. Он может продумывать более глубокий материал, чем сделал бы наяву. Таким образом, пациент пытается дать терапевту указания о состоянии терапии, меньше акцентируя внимание на проблемах контакта с самим терапевтом. Вы понимаете разницу?
ЭР: Мне интересно, можете ли вы привести пример, иллюстрирующий это.
ИФ: На одном воркшопе психиатр (уже познакомившись со мной, так что я предполагал, что его сон касается именно меня, а не того, что он обо мне слышал) увидел сон про грязный кабинет. Глядя на этого человека, я не мог представить, что у него может быть грязный кабинет. Если правильно помню сон, он очень сердито ругал свою медсестру за беспорядок в кабинете. Моим первым вопросом было: «В чём моя неопрятность вчера?» С некоторым трудом, испытывая неловкость, он смог сказать мне, что я был неряшливо одет — что было правдой — и это его сильно беспокоило. Не было причин, чтобы это его не беспокоило. И пока он не смог сказать мне это и убедиться, что я не разозлился, он не мог мне доверять. Затем мы коснулись злости в этом сне. Мы вышли на его представление о злости. Оказалось, что для него злость означала убийственность. Я не узнал бы об этом за ту короткую встречу с ним в группе — с незнакомцем, — но благодаря сну, выделив этот эпизод с гневом на медсестру, мы сразу вышли на проблему, на которую ушло бы намного больше времени. В этом счастливом случае выяснилось, что сдерживание гнева для него было важным, и теперь он понял почему: если злость означала убийство, конечно, он должен был её подавлять. Он не осознавал, что именно так воспринимает гнев. Это примерно всё, что я могу сказать. Конечно, это всего один сон, и я встретился с ним всего дважды.
ЭР: Используете ли вы когда-либо метод Перлза работы со снами, который он демонстрировал, предлагая пациентам разыгрывать части сна, персонажей или предметы из сна так, словно они являются ими?
ИФ: Это, как я уже говорил, было его способом ассимилировать проекции. Я предпочитаю — я не говорю «никогда» — редко использую технику пустого стула, потому что стараюсь держать контакт между мной и пациентом всегда на переднем плане. Я скорее попрошу пациента рассказать мне, что он чувствует, пытаясь представить себя частью сна, но подчеркну, чтобы он осознавал, что говорит это именно мне о своём чувстве, а не становится этим чувством. Иначе, без контакта с терапевтом, это часто превращается в актёрское упражнение.
ЭР: То есть, в технике пустого стула человек обращается к пустоте, словно к родителю или брату. Вы, в работе со снами и в терапии вообще, стараетесь ориентироваться на контакт пациента с вами, а не с воображаемой фигурой?
ИФ: Я скорее скажу: «Скажите это мне, как если бы я был вашим родителем». Оба способа полезны. Понимаете, я больше заинтересован в переносном материале. А другая техника скорее направлена на осознание и попытку отменить проекцию.
ЭР: Считаете ли вы, что материал переноса играет большую роль в гештальт-терапии?
ИФ: Я слышу ваш сомневающийся тон, Эд. Несомненно. Именно благодаря переносу, который открыл (а не изобрёл) Фрейд, мы можем делать акцент на «здесь и сейчас». Перенос и есть эквивалент «здесь и сейчас». Именно открытие Фрейда сделало психотерапию возможной.
ЭР: То есть перенос становится основанием не только для фрейдовского психоанализа, но и вообще для любой терапии в контексте настоящей ситуации?
ИФ: Именно он позволяет завершить в настоящем незавершённые ситуации из прошлого, которые терапия и должна завершить. Благодаря тому, что Фрейд назвал переносом, настоящее незаметно продолжает подвергаться влиянию незавершённых ситуаций прошлого. То, как мы это делаем, и подчеркивает гештальт-терапия.
ЭР: Через контактную границу…
ИФ: Да.
ЭР: Прерывания и нарушения…
ИФ: Особенно проекции. Мы не поощряем перенос так, как разумно делается в психоанализе из-за метода. Но то, что мы не поощряем его, не означает, что его нет. Я предполагаю — даже настаиваю — абсурдно утверждать, что мы не используем перенос. Мы редко используем это слово. Мы обычно задаём вопросы типа: «Чем я похож на твоего отца?», «Чем я похож на твою мать?». Такие вопросы, распространённые в гештальт-терапии, на самом деле направлены на осознание переноса и его устранение. Возможно, слово «перенос» не совсем нам подходит. Мы могли бы сказать «перенесение».
ЭР: Чтобы сделать это более процессным?
ИФ: Именно. И как именно это происходит.
ЭР: Ранее вы упомянули, говоря о снах, что ориентируете пациентов обращать внимание на сны до и после терапии. Это приводит меня к вопросам о начале и окончании терапии. Поделитесь тем, как именно вы ориентируете пациентов в начале терапии?
ИФ: Легче говорить о начале, чем о завершении.
ЭР: Поэтому я и начал с начала.
ИФ: Думаю, начальной ориентации пациента часто уделяют слишком мало внимания. Я рассказываю человеку, который приходит ко мне, как именно я работаю, что меня интересует. Я могу сказать нечто вроде: «Всё, что вы переживаете здесь, в этой комнате со мной, актуально и важно». Это аналогично тому, чтобы сказать пациенту, что мы будем концентрироваться на настоящем моменте и контакте со мной, поскольку в индивидуальной терапии в комнате находимся только мы двое. Существенной частью моего подхода является не просто то, что пациент что-то говорит, а то, что он говорит это мне. Затем я объясняю ему, что то, что он вспоминает, происходит именно сейчас. Именно так прошлое становится настоящим в терапии — через воспоминание. Будь то воспоминание о том, что он делал вчера, по дороге на терапию или двадцать лет назад. Вспоминание — это действие в настоящем, а рассказывать это мне — следующее действие в настоящем. На этом этапе я могу сказать: «Если вы вспомните свой сон, я бы попросил вас рассказать его мне». Я не требую от пациента, чтобы он обязательно вспомнил сон, я просто сообщаю, что это может быть полезно. Я не прошу его прилагать особых усилий, потому что важно видеть, как он сам с этим поступит. Также я добавляю: «Меня особенно интересуют ваши сны в ночь до и после сессии». Это не значит, что другие сны меня не интересуют.
ЭР: Похоже, что при ориентации пациента вы всегда возвращаете терапию к настоящему моменту «здесь-и-сейчас». Вы говорите пациенту, что процесс воспоминания также происходит в настоящем. Мне интересно, работаете ли вы каким-либо образом с будущим, фантазиями, репетициями, тревогами о будущем?
ИФ: Забота о будущем — это тоже действие в настоящем. Планирование, ожидание, подготовка — всё это происходит в настоящем. Я одинаково заинтересован как в процессе ожидания, так и в его содержании. И то и другое важно. Мне важно, чтобы пациент осознавал, что он ожидает чего-то, например, окончания сессии, похода куда-то, и чтобы он рассказывал мне о самом процессе ожидания. Ведь само ожидание — это действие в настоящем.
ЭР: Перлз часто описывал зрелость как переход от опоры на среду к опоре на самого себя. Мне любопытно, что именно вы замечаете, работая с человеком какое-то время, что показывает вам, что терапия продвигается и, возможно, скоро завершится?
ИФ: Это намного сложнее объяснить. И причина в том, что начало терапии намного проще, чем её завершение. Как невротическое поведение известно своей предсказуемостью, так и здоровое поведение известно своей непредсказуемостью. Поэтому я легче описываю начало терапии, чем её завершение, ведь завершение у каждого человека разное. Как говорил Гудман, терапия заканчивается тогда, когда оба участника согласны, что пациент осознает, что именно он заходит ко мне в кабинет и именно он со мной разговаривает, то есть отсутствуют проекции, интроекции и ретрофлексии.
ЭР: Не в этом интервью, а в других наших беседах вы говорили об ассимиляции и её роли в терапии. Однажды вы сказали, что настоящая ассимиляция в терапии зачастую происходит за пределами терапии.
ИФ: Я бы сказал, что это неизбежно. Когда я говорю «за пределами терапии», я не имею в виду, что во время терапии ассимиляция не происходит. Я говорю о том, что ассимиляция происходит за пределами терапевтической комнаты, за пределами встречи с терапевтом. Например, в течение недели между сессиями некоторая ассимиляция должна произойти. Я не считаю инсайт или «ага-переживание» настоящей ассимиляцией. Используя аналогию с едой: ощущение голода, поиск пищи, её взятие, пережёвывание, глотание — это осознаваемые действия. Но сама ассимиляция пищи происходит без осознания. Подобно этому интеллектуальная или эмоциональная ассимиляция тоже не является осознаваемой. Когда что-то, что я услышал, становится моим, я это осознаю. Но когда это становится мной — я этого уже не осознаю. Момент «ага» — это осознание, что что-то стало моим. Но то, что это становится мной, — это уже неосознаваемый процесс. Поэтому ассимиляция должна происходить между сессиями и обязательно после успешной терапии. Именно поэтому я не удивляюсь, что, когда я ухожу в отпуск, некоторые пациенты чувствуют себя гораздо лучше, чем если бы мы продолжали встречи. Это отпуск для меня и одновременно для них, чтобы ассимилировать то, что происходило во время терапии. Это также причина, почему нужно осторожно относиться к тому, чтобы присваивать себе успехи пациентов. Когда пациент переходит от одного терапевта или направления к другому, второй терапевт может наслаждаться плодами ассимиляции, произошедшей благодаря первому.
ЭР: Есть ли у вас предположения о причинах отсутствия критики гештальт-терапии внутри самого гештальт-сообщества? Большая часть публикаций по гештальт-терапии носит скорее разъяснительный или даже пропагандистский характер. Письменной критики гештальт-терапии почти нет. Есть мысли о причинах этого?
ИФ: Мне сложно на это ответить. Мне это не очень знакомо, потому что я слишком хорошо осознаю собственные ограничения и текущие ограничения того, что называется гештальт-терапией. Если вы имеете в виду именно такую критику, я сам критично отношусь к ограничениям, и именно это меня и интересует. Какие-то успехи, которых я добился в гештальт-терапии, интересуют меня гораздо меньше. Намного больше меня интересуют неудачи и разочарования. В преподавании я всегда подчеркиваю ограничения. Я не являюсь евангелистом и никогда не считал, что гештальт-терапия способна решить все терапевтические проблемы. Думаю, нам нужно больше изучать себя и наш метод. То, что, возможно, вызвало такое положение дел, — это слишком много интроекции и недостаточно критики. Думаю, некоторые из нас виновны в том, что подталкивали других к интроекции. Я имею в виду стиль книги «Гештальт-терапия дословно» (Gestalt Therapy Verbatim), который поощряет интроекцию и минимизирует критическое отношение читателя. В то же время стиль книги «Гештальт-терапия» Перлза, Хефферлайна и Гудмана делает прямо противоположное: он затрудняет или практически исключает интроекцию.
ЭР: Тем не менее, книге уже двадцать восемь лет. Мой вопрос был именно о том, почему столь мало людей публично выступают с критикой гештальт-терапии и её ограничений. Единственное, что я могу вспомнить, это критика Мэри Хенле, которая не была гештальт-терапевтом и критиковала гештальт-терапию с позиции гештальт-психологии. Других примеров письменной критики я практически не встречал.
ИФ: Любопытно, что она критиковала именно «Гештальт-терапию дословно». И совершенно справедливо сказала, что Перлз провозгласил всё, что было до этого, устаревшим. У неё не было интеллектуальной необходимости критиковать то, что уже объявлено устаревшим. Думаю, ей было бы сложнее критиковать «Гештальт-терапию», а не «Гештальт-терапию дословно». Само отсутствие критики говорит о том, что недостаточно серьёзных людей хорошо знакомы с гештальт-терапией.
ЭР: Могли бы вы сразу назвать некоторые ограничения гештальт-терапии, с которыми вы сами сталкиваетесь в практике или обучении?
ИФ: Возможно, я мог бы сразу назвать их, но когда пытаюсь сформулировать — язык заплетается. Да, у меня есть множество вопросов о том, «что дальше в гештальт-терапии». Я никогда не считал, что гештальт-терапия решила все проблемы. Она часто оказывается эффективнее — но точно не всегда — других направлений. Но я считаю её недостаточно эффективной. Часто создается впечатление, будто гештальт-терапия всегда краткосрочна. Но реальность не подтверждает этого.
Перевод сделан Алексеем Савиных – гештальт терапевтом, в рамках исследования истории и принципов гештальт-терапии.
Чтобы не пропустить новые статьи подпишитесь http://t.me/geshtalt_awaik
Записаться на прием
Очный прием: Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 83 (М. Василеостровская)
Онлайн прием: Zoom, Skype, Whatsapp
Стоимость приема: 3500 рублей \ 50 минут
Записаться через Whatsapp +7 (911) 840-65-26
или [email protected]
- Гарантия сохранения стоимости – я гарантирую, что начав с вами терапию я не буду повышать стоимость, даже если она вырастет в несколько раз.